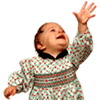Александр Севастьянов. «ВРАГИ» пасхальный рассказ.
 Христос Воскресе!.. Христос Воскресе!.. Христос Воскресе!.. – трижды произнес священник сельской церкви, осеняя крестом собравшийся к пасхальной обедне крестьян.
Христос Воскресе!.. Христос Воскресе!.. Христос Воскресе!.. – трижды произнес священник сельской церкви, осеняя крестом собравшийся к пасхальной обедне крестьян.
– Воистину Воскресе! – как ропот могучий волной раздался дружный и чистосердечный ответ прихожан на это приветствие батюшки.
Молчаливая дотоле толпа загудела и тесной гурьбой направилась к кресту, христосуясь по пути друг с другом.
Только один человек – мельник с Запрудневской мельницы, Силантий Кузьмич Толстопятов, все еще стоял у свечного ящика и, держа в руке кулич и мешочек с крашеными яйцами, казалось, и не думал идти ко кресту.
– Вы что же это, Силантий Кузьмич, не желаете прикладываться-то? – спросил его церковный староста.
– Нет, как это не желать!.. В нынешний праздник не приложиться ко кресту – грешно… Опять же и с причтом надо похристосоваться…
– Так что же вы не подходите?..
– А вот дожидаюсь, когда народ схлынет малость… Вишь, теснота какая… Замнут…
В действительности же Силантий Кузьмич боялся не тесноты, а встречи в толпе с Пафнутием Назаровым, с бывшим своим должником, который перед самой Пасхой расплатился с ним. И расплатился-то только потому, что Силантий Кузьмич свел у него со двора последнюю коровушку и отобрал семена овса и гречихи, которые Пафнут берег для весеннего посева, сам с семьей частенько недоедая из-за того в течение зимы.
Сознавал в душе Силантий Кузьмич, что нехорошо, а главное – «не по-божески» сделал он, окончательно разорив мужика-односельчанина, и неловко ему было встретиться с ним в этот праздничный день. По христианскому обычаю христосоваться надо, а как он подойдет к Пафнуту с пасхальным приветствием, когда неделю назад он стал заклятым врагом его. Пафнут сгоряча и с горя обозвал его тогда Иудой-христопродавцем.
– Иуда!.. Ну пусть буду я Иудой, – сказал ему тогда Силантий Кузьмич и поддразнил: – а все-таки коровка-то твоя с овсецом и гречихой мои теперь!..
– Да ты последний крест рад снять с человека, потому – Иуда ты окаянный, – не унимался отчаявшийся Пафнут.
– Что же, и крест сниму, – согласился Силантий Кузьмич. – Задолжал, так надо ж с тебя чем-нибудь получить… Не граблю ведь, а свои беру…
– Свои ли? – упрекнул его Пафнут, и упрекнул справедливо. – Свои-то ты давно получил с меня работой… Стало быть, задаром работал я у тебя с семьей все лето, упуская свое собственное?.. Ведь по уговору я долг тебе этим отрабатывал… Только одно и сделал я нехорошо, что, на совесть твою надеясь, не взял от тебя назад свою расписку долговую. Думал, ты сам разорвешь ее, как оправданную, а ты, пользуясь ею, пришел теперь вторые деньги с меня получать. Бери, Иуда окаянный!.. Авось и моим добром когда-нибудь подавишься… Не пойдет оно тебе впрок и отольются тебе когда-нибудь наши сиротские слезы… Помни это!..
Похолодело тогда сердце Силантия от этих слов Пафнута, и оробел он. – «Что это? Угроза», – подумалось ему.
С тех пор Силантий Кузьмич стал бояться этого мужика. Дом свой окружил злыми цепными собаками, которых на ночь выпускал из конур, и они бегали вокруг дома по две с каждой стороны. Себе он купил в городе шестизарядный револьвер и никуда шагу не делал без этого оружия. Только сегодня в храм не взял он его с собой, да и то потому, что как-то совестно и стыдно было идти в церковь с оружием в кармане. «Будто вор на большую дорогу!» – подумал он и выложил револьвер из кармана. Но теперь Силантий Кузьмич пожалел об этом и именно потому, что увидел в храме среди молящихся Пафнута, которого он не рассчитывал встретить в церкви, думая, что тому и выйти-то не в чем – так обчистил его перед праздником Силантий Кузьмич. Но Пафнут, очевидно, раздобыл лапти у соседа и пришел да и стал-то как назло прямо перед ним, загородив своей спиной Силантию Кузьмичу вид на растворенные Царские врата и видневшийся за ними алтарь.
– Ишь, хам… Ровно он и перед Богом-то ближе меня находится! – подумал Силантий Кузьмич, однако не только не полез вперед, а, наоборот, нарочно остался сзади и умышленно прятался за других молящихся, стараясь, чтобы Пафнут не видел его. Пафнут действительно не замечал его. Он усердно молился, истово творя крестное знамение и тихо-тихо подпевая с детства заученные праздничные молитвы.
Но Толстопятову казалось, что Пафнут тайно следит за ним, наблюдает – где он стоит, с кем говорит и когда будет выходить из храма. А этого совместного выхода из храма Силантий Кузьмич боялся больше всего.
Пасхальная обедня кончилась рано. Далеко еще до рассвета. На улице темно, даже заря не брезжила на востоке. Силантию Кузьмичу не по душе было это раннее окончание пасхальной обедни. Боялся он дороги лесом в темноту… Ведь и луна-то, как на грех, не светила. Одни звезды горели. Но что их блеск для земли? Лес велик, а Силантий Кузьмич безоружен… Шутка ли пройти пять верст лесом, и с таким заклятым врагом, как Пафнут.
«Непременно он только этой ночи ждал, и в церковь пришел для того, чтобы меня выследить, а по дороге нагнать и убить», – думал Силантий Кузьмич. Руки его, державшие кулич, дрожали, по телу бегали мурашки от ужаса, а на лбу, несмотря на жару в церкви, выступали капли холодного пота. И Толстопятов, переводя свой взгляд на иконы, молил о том, чтобы Бог помиловал его «от напрасной смерти»…
Последним подошел Силантий Кузьмич похристосоваться с батюшкой. Равнодушно поцеловал он крест, трижды облобызался со священником и пошел к остальным по порядку, целуя сначала иконы, потом державших их. Рука его вынимала из мешочка крашеные яйца и раскладывала их по блюдам. Его поздравляли с праздником, но он не слышал этого приветствия. В голове его была одна мысль: «Может быть, этот поцелуй-то мой последний, прощальный… предсмертный… А с женой, с детишками так, видно, и не придется похристосоваться… И кулич мой к ним не попадет»…
И страшно становилось Толстопятову. «Господи, – думал он, оглядывая церковь, – может быть, в последний раз мне тут живым-то быть приходится… Может быть, завтра принесут меня сюда мертвого… Да и то не понесут, пожалуй, в церковь-то… Найдут меня в лесу с пробитой головушкой… О-о-о Господи!.. Страшен Суд Твой и велико мое прегрешение!..»
И в первый раз в течение всей своей жизни горячо и искренно раскаялся Силантий Кузьмич во всех своих грехах и пожалел о том, что нечестно поступил с Пафнутом. «Кабы этого не было, то незачем бы мне бояться этого мужика, – думал мельник, – шел бы я теперь с ним рядком да разговаривал бы ладком… А теперь он для меня страшней волка… Вот то-то, грехи наши тяжкие!.. И на что только я польстился?.. Если б еще своего добра мало!.. А то ведь всего много, всего в запасе, с избытком даже, да попользоваться-то им, пожалуй, не придется!.. Вот дойду до лесу, а там и…»
Силантию Кузьмичу страшно было даже подумать, что может быть с ним «там».
Он нагнулся на дороге, отбил ногой примороженный большой камень и спрятал его в свой пустой теперь мешочек, где до того у него были крашеные яйца. «Все, хоть есть чем оборониться», – подумал он с глубоким вздохом, боязливо озираясь по сторонам.
А ночь, как на грех, перед рассветом стала еще темнее. Звезды меркли и гасли, но заря еще не загоралась. Только бледная, чуть заметная светлая полоска блестела над лесом на том месте, где со временем разгорится заря…
Шел Силантий Кузьмич, едва переводя дух от страха и волнения. Заденет ли нечаянно плечом куст, хрустнет ли под его ногой сухая ветка или замерзший ледок лужицы, мгновенно сердце его так и захолодеет… Ему чудится, что это Пафнут бежит сзади, нагоняет, хватает за плечи… Вот сейчас полоснет его чем-нибудь тяжелым или острым по голове…
У Силантия Кузьмича шумело в ушах, в глазах прыгали красные точки, а волосы на голове шевелились, точно перебираемые чьей-нибудь рукой. Он шел, чутко ко всему прислушиваясь и боязливо оглядываясь по сторонам, ожидая нападения из-за каждого куста.
Но слава Богу! Лес почти пройден. Вдали видны уже просветы. Еще каких-нибудь три-четыре минуты ходу, и Силантий Кузьмич на поле, а там до родной деревни рукой подать. Да полем и идти веселей… Все не так опасно.
Задыхаясь от пережитых волнений и усталости, Силантий Кузьмич, точно безумный, выскочил из леса и… вдруг остановился, словно чем-то пришибленный. Здесь, на опушке леса, почти лицом к лицу он столкнулся с тем, кого опасался встретить всю дорогу…
На небольшом бугорке под сосенкой, совсем при выходе из леса на поле, сидел Пафнут и переобувал свои промокшие лапти.
«Вон он где изымать-то меня хочет», – промелькнуло в голове Силантия Кузьмича, и он похолодел от ужаса.
Руки его задрожали, колени подогнулись.
А Пафнут переобулся уже, увидел его, узнал и пошел к нему навстречу. Лицо радостное такое, улыбающееся… Глаза так и светятся…
– Кто это?.. Это вы, Силантий Кузьмич? – спросил он ласковым, но, как казалось Толстопятову, вкрадчивым голосом. – Христос Воскресе, Силантий Кузьмич!
Пафнут потянулся поцеловать мельника и сунул в его руку что-то небольшое, круглое, холодное…
– Во… во… истину! – прошептал в страхе Силантий Кузьмич и с ужасом попятился от объятий Пафнута.
– Это что ж у тебя такое? – спросил он, отстраняя от себя руку своего врага.
– Яичко вам… По христианскому обычаю…
– Яичко?.. Ах, да… да… Спасибо, брат… Погоди, сейчас и я тебе в ответ…
Силантий Кузьмич поспешно опустил руку в мешочек, но вместо яйца там только камень ему попался. И вмиг, будто молнией осенило мужика: «Господи! Враг мой, кровный враг, которого я же сам обидел и разорил по жадности своей, и тот для меня яичко у себя нашел ради Твоего Светлого Воскресения. А я… что приготовил ему?.. Не давать же ему камень вместо яйца!»
И больно, стыдно и неловко стало ему. В первый раз у него все перевернулось внутри. Понял он свой дикий, бесчеловечный поступок, и бесконечная жалость к этому кроткому, стоявшему перед ним мужику, и стыд до жгучей боли в душе, объял его. Слезы застлали глаза, что-то заклокотало в горле. Силантий Кузьмич упал перед Пафнутом на колени и, обнимая его ноги, молил:
– Пафнутушка, голубчик, прости ты меня, Христа ради!.. Все, все и за всех прости… Сегодня Воскресшим Господом прошу тебя я о том. А что я неправильно взял у тебя и у других, я все отдам обратно. Пойдем, с тебя первого начну.
И, подхватив изумленного Пафнута под руку, Толстопятов повел его к своему дому.
– Вот твоя коровка, бери, а овес с гречихою я ужо сам привезу… с лихвою… А это вот за бесчестье тебе, – и он сунул в руку Пафнута десятирублевый золотой.
Не помня себя от радости, возвращался Пафнут домой, ведя за собой на веревочке свою буренушку. Что было силы застучал он в ворота своего дома. Выбежала жена отпереть ему, да в изумлении всплеснула руками.
– Чтой-то, прости Господи, да ты никак с ума со шел, воровством занялся в такой день! Откуда у тебя буренушка?
Но по сиявшему лицу Пафнута видно было, что не воровством вернул он свою буренушку.
– Нет, Маша, это Бог возвратил! – ответил он. — А это вот, – показал он деньги, – дало нам красное яичко.