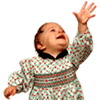Жало и преткновение
Марина Бирюкова
17.08.2015
 «Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша» (Пс. 102: 12).
«Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша» (Пс. 102: 12).
В Церкви часто бывает так: слова, слышанные уже сотни, а может быть, и тысячи раз, слова, в которых, в общем, нет ничего непонятного… ты однажды слышишь как будто впервые, потому что впервые по-настоящему понимаешь.
«…удалил есть от нас беззакония наша» (Пс. 102: 12). Да, удалил. В этом я, получившая за десять лет серьезного воцерковления невероятное количество даров и благодеяний, сомневаться не могу. Как запад от востока, отстоит от меня теперь мое прошлое. Но, скажите, бывает ли без запада восток? Восток – он потому и восток, что есть запад. Они неразрывны. Их связь в данном случае – моя жизнь, мой земной путь, который не разрубишь на куски, не разведешь эти куски, как льдины в море.
Господь прощает нас так же непрерывно, как мы грешим. Он не отворачивается от нас, ежечасно отворачивающихся от Него, Он до последних наших земных часов не лишает нас шанса. Это открывалось еще ветхозаветным пророкам; об этом говорит пример распятого разбойника; об этом пишут святые отцы, учителя Церкви, именно это мы исповедуем в наших молитвах, в песнопениях – цитат можно было бы привести множество; и Таинство отпущения грехов в Церкви установлено Самим Спасителем: «Кому простите грехи, тому простятся» (Ин. 20: 23).
Но люди, по отношению к Церкви внешние, знающие о ней лишь понаслышке, нередко делают из вышеизложенного язвительный вывод: дескать, просто очень всё у этих православных, легко. Что бы ни натворил, каких бы дров ни наломал – приди к батюшке, покайся, произнеси несколько слов – и снова чист как младенец, можешь дальше грешить.
Объяснить людям, что это не так, что легковесного и безответственного отношения к греху в Церкви нет… может быть, и возможно, если они слушать будут; но для начала мы сами себе должны это уяснить.
Потому что мы и сами либо склонны к такой же легковесности («Ну, было дело. Ну и что теперь? Скажу завтра на исповеди – и всё, можно будет забыть»), либо просто не можем в себе это совместить – радость от прощения с необходимой нам памятью о нашей греховности и ее горьких плодах.
Далее – мой личный опыт совмещения. Он, может быть, не во всем правилен и безупречен, но я и не претендую на безупречность, не предлагаю никому брать с меня пример – просто надеюсь, что и мой опыт для кого-то не лишний, потому и пишу.
Однажды мне позвонил мой одноклассник. Мы не виделись много лет – с самого выпускного вечера. Я не знала о нем практически ничего. Но он знал, что я работаю в журналистике, читал мои публикации в газетах. И так случилось, что ему дали мой телефон.
«Ты?! Надо же! Привет! Как дела?» Поговорили несколько минут, я узнала что-то о нем, он – обо мне. Номер, естественно, остался в памяти моего телефона. Прошел еще, кажется, год. Или больше. И всё настойчивей становилась во мне эта мысль: неслучайно мне позвонил именно он, а не кто-то другой. Не просто так получила я его номер. Промысл Божий в этом. Позвонить нужно. Попросить прощения за то, что было тогда. В каком классе? В пятом?..
Из-за моего, прямо скажем, доноса парня исключили из пионеров. Вина его состояла в том, что он, измученный долгой линейкой на ярком солнце (19 мая – День пионерии) в сердцах произнес обидные слова о пионерии в целом. Кажется, он сказал: «Да сдохни она, эта пионерия, с линейками! Когда я теперь уроки сделаю?»
Не знаю, слышал ли это еще кто-то, кроме меня, стоявшей рядом. Но мне показалось, что мой пионерский долг – обличить хулителя. Старшая пионервожатая меня поддержала: «Он же посмеялся над самым святым!»
Впрочем, я не знаю, что говорило во мне громче – пионерская принципиальность или желание отомстить: он был мальчишка драчливый, и мне от него доставалось. Нехорошо бить девочек, да! Но именно в минуту собственного раскаяния ты понимаешь, что чужие грехи не имеют в этом деле ровно никакого веса и значения.
В старших классах всё как-то забылось, потому что мы сами стали другими. Он влюбился в мою подругу, мы с удовольствием проводили время общей компанией, отношения наши стали вполне приятельскими. Ну, а потом была жизнь…
До звонка этому однокласснику я дозрела в Прощеное воскресенье – по дороге в храм, на Чин прощения. Конечно, во мне жила малодушная надежда. Надежда на то, что он засмеется: «Да брось ты! Это ж когда было! Я давно всё забыл!»
Однако он не засмеялся. Он очень серьезно ответил: «Помню, конечно, всё помню». Собственно, больше он ничего мне не сказал. Видимо, был слегка ошеломлен. Я уже не выдерживала напряжения и, чтобы перевести разговор на другое, спросила, как чувствует себя его внук. Он ответил, что с внуком, слава Богу, всё в порядке. На том разговор был окончен. Исповедалась я в этом давнем грехе несколько позже, Великим постом. Почему не сделала этого раньше, ведь стояла у аналоя уже не одну сотню раз?.. Не считала необходимым: это ведь произошло еще до моего крещения. В другой жизни. И с другою мною… Но нет – не оторвешь, оказывается, восток от запада, не разрубишь свою дорогу на куски.
Стало ли мне легче после звонка и исповеди? Нет. А нужно ли это – чтобы нам сразу становилось легко? Ведь на это тоже воля Божия. Он даст нам легкость ласточки – когда эта легкость будет нам нужна. А пока не дает, не нужна.
Собственно, я и сама почувствовала, что не нужно мне сейчас облегчения. Более того: за Великий пост я сделала еще несколько подобных звонков – людям, которых обидела чем-то в разные периоды моей жизни. Кое-кого из них мне пришлось для этого разыскивать сложными путями. Что интересно, люди, которым я звонила, оказались просто сплошь удивительными. Мудрыми, добрыми, умеющими жить выше обид. Еще и поэтому каждый звонок, каждая просьба о прощении давней вины встряхивали меня и сдирали с моей души быстро нарастающую кору самодовольства, самоудовлетворения. А от этого иной становилась и моя молитва – и в храме, и домашняя. Дело вот в чем: наше ежедневное молитвенное правило содержит прошения об отпущении нам грехов. Мы повторяем это каждый вечер и каждое утро: «…и остави нам прегрешения наша яже делом и словом». Эти слова для нас привычны! Но всегда ли мы понимаем, чего именно просим? Ведь оставить нам прегрешения – это не пыль со стола тряпочкой смахнуть. Здесь нужно представлять себе реальную картину, чтобы по-настоящему это прошение про-изнести, то есть вынести из самого сердца.
Кто-то, может быть, скажет, что я и сама бодро топаю в депрессию, и потенциального читателя тяну за собой. Когда-то нужно, дескать, и успокоиться. Ведь от неуспокоенности один шаг до неверия в апостольскую власть священника – отпустить грехи. И нужно ли, целесообразно ли, не опасно ли это, наконец, – носить на себе лишнюю тяжесть?..
Но в данном случае речь о тяжести, которая на самом деле совсем для нас не лишняя. Которая не подавляет в нас духовную жизнь, а, напротив, делает ее действительно жизнью. И никакого недоверия здесь нет, тоже напротив: именно прощенность греха заставляет нас очень хорошо его видеть.
Моменты тихого сползания с ума – они, конечно, бывают. И даже очень часто. Но сползание это кажущееся. Здесь нужно понять вот что. Боль раскаяния никогда не приходит сама по себе. Это не просто рефлексия или переоценка прошлых ситуаций. Это посещение Божие. Когда тебя обжигает совесть, стыд – это Сам Бог тебя касается. А раз Он тебя касается, значит, ты не одна. Ты с Ним. И вовсе не сходишь с ума на самом деле, нет – возвращаешься в ум.
Бывает и хуже. Тебе вдруг кажется, что ты не имеешь права на радость. На самую обычную радость от жизни, от всего хорошего, что в ней есть. «Радоваться?! А вот это забыла? А это?..» Но когда этот тяжелый голос раздался во мне последний раз, я кое-что поняла. Я шла по весеннему городу, смотрела на тополя в темно-красных сережках, на пожилых женщин, разбивающих клумбу у своего подъезда, на кота, который надзирал за работами, на молодую супружескую пару с коляской… И постепенно осознавала: радость – она тоже не сама по себе. Она неотделима от любви, а любовь, в свою очередь, – от нее. Если мы любим своих близких, своих друзей, если мы вообще людей любим – значит, мы рады, что они у нас есть, рады их существованию – разве не так? А если не рады, то что же это за любовь?
А природа, растения, животные? Жалко человека, который к ним безразличен, а тот, кто их любит, – радуется каждому дереву, птице, бабочке. Не радоваться – значит не любить; следовательно, нет и не может быть запрета на радость; напротив: нерадость осуждена.
Поэтому не нужно бояться видеть себя и свою жизнь такими, как есть. Это не лишит нас радости, но очень многое позволит понять. Мы увидим, что нами владело, управляло, из-за чего именно мы совершили грех; увидим, насколько ложными были наши ориентиры, и поблагодарим наконец Бога по-настоящему за ориентиры верные.
Конечно, когда-то мы устанем от тяжести прошлого, и у нас возникнет соблазн переложить хотя бы часть вины на других людей – родителей, учителей, воспитателей, даже просто друзей, коллег – тех, кто был старше, опытнее, кто должен был нас когда-то остановить или дать нам противоядие от неверных поступков, но почему-то не остановил и не дал. Ну хотя бы вышеупомянутая пионервожатая – она-то не была уже ребенком в отличие от меня, она должна была меня остановить, объяснить мне всю низость доноса, в конце концов как-то иначе разрешить всю эту ситуацию с дерзким мальчишкой…
Ей было немного за двадцать, этой пионервожатой. Сколько лет было мне, когда я поняла, что совершила тогда грех? Точно не помню, но боюсь, что я была уже старше ее тогдашней. Так какое я имею право ее судить? Виноваты, возможно, в наших бедах и родители, и учителя, и власть тогдашняя, подменившая святыню… Но никто не виноватей нас самих, вот это нужно понять.
Не знаю, как у других, – о таких вещах ведь не спросишь – а у меня процесс спонтанно начавшегося покаяния существенно опережал процесс воцерковления. Это был тяжелый период – крах иллюзий относительно самой себя. «Как со мной – со мной! – могло такое произойти? Я же хороший, умный человек… А если нет, то как же мне жить теперь?» К тому времени я уже читала, конечно, и о грешнице, омывшей ноги Христу, и о мытаре Закхее, и о благоразумном разбойнике. Но соотнести их судьбы со своею не могла. И Господь нашел более простой способ помочь мне в этом непростом деле: составлении верного и здравого представления о себе самой и о том, как мне надлежит жить. Понуро бредя по улице, я вдруг заметила незнакомую девушку в синей майке. На этой майке было написано: «Неважно, сколько раз ты падал. Важно, сколько раз ты поднимался».
Это уж потом я прочитаю известное: «Пал – восстань; снова пал – снова восстань», и затем слова Иоанна Лествичника: «Людям свойственно падать и скоро восставать от падения, сколько бы раз это ни случилось; только бесам свойственно, падши, никогда уже не восставать». А тогда умная майка оказала мне первую помощь. Я смогла если не сформулировать, то по крайней мере почувствовать истину: самое ценное и доброе, что есть во мне, – это именно способность к покаянию. И никакой другой причины отнестись к себе хорошо искать не нужно.
Также очень важным оказалось использование глагола «подниматься». Я почувствовала разницу между истинным покаянием – подъемом! – и безвольным оплакиванием себя (не грехов своих, а вот именно себя!), переходящим в истерику самобичевания. Теперь вспоминаю эти белые буквы на синем фоне, читая старца Ефрема (Мораитиса): «Покаяние воссоздает человека заново. Оно дано, чтоб после крещения душа имела возможность исцелиться. И если бы не было покаяния, мало кто мог бы спастись. Поэтому добродетель покаяния безконечна, доколе есть в человеке дыхание жизни…»
Но иногда бывает так: мы читаем о грехе и покаянии у святых отцов, и у нас возникает некий конфликт с читаемым: нам представляется, что слова духовного писателя – не о том, что мучает нас; что они вообще не о нас, эти слова, и потому текст скользит по поверхности нашего сознания. Писано о спасении – а мы озабочены не спасением своим, нет, а общей картиной нашей земной жизни, тем, насколько она приглядна, пристойна. Я подозреваю, что эта надежда или, вернее, претензия на пристойность моей личной картинки – очень хитрая уловка врага. Ведь именно она приводит к ложному чувству вины, не имеющему ничего общего с христианским раскаянием, чувству хроническому, болезненному, заставляющему человека постоянно спрашивать «Зачем же я нехорош?» и искать оправдания не в Божиих, а в собственных глазах – самооправдания. А самооправдываемся мы либо делами («Нет, я сегодня молодец, я и окна помыла, и с днем рождения Анну Ивановну поздравила, а на работе-то – что бы они все без меня делали…»), либо полуосознанным, вошедшим в привычку привиранием в безконечных рассказах о себе, о своем давнем или совсем недавнем прошлом. За этим нашим привиранием скрывается подчас тихое отчаяние – от того, что не таковы мы, как хотелось бы, и не получается у нас удовлетвориться собой. Как перестать этого хотеть, как отказаться от ложного утешения и собственному привиранию наконец перестать верить? Вот для этого, наверное, и нужен ужас, даже шок от страшного собственного греха, от крайне постыдного собственного поступка. Это сразу сокрушает наши претензии на пристойность и положительность общей жизненной картины. Искать нужно не совершенства, а смирения – не помню, кто сказал, но многие могли бы сказать.
А вот это сказал упомянутый выше старец Ефрем (Мораитис): «Когда Бог просветит человека, и он покается в своих грехах, и будет проводить жизнь смиренную и внимательную, Бог не попустит его погибели. Естественно, что прежде совершенные грехи станут для него жалом и преткновением. Но, видя высоко вздымающиеся волны, пусть не отчаивается, что падет и погибнет, но пусть уповает на Бога и противоборствует с верой».
Источник: http://www.eparhia-saratov.ru