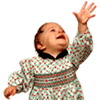«Я – хороший врач»
21.02.2015
 Чехов никогда не говорил о себе, что он хороший писатель, но неоднократно повторял: «Я – хороший врач». Его рассказы читал Александр III, Императорская семья видела на сцене все его пьесы, он был почётным академиком, но в загранпаспорте жены, актрисы МХТ Ольги Книппер, стояло – жена врача.
Чехов никогда не говорил о себе, что он хороший писатель, но неоднократно повторял: «Я – хороший врач». Его рассказы читал Александр III, Императорская семья видела на сцене все его пьесы, он был почётным академиком, но в загранпаспорте жены, актрисы МХТ Ольги Книппер, стояло – жена врача.
Школа у Чехова была серьёзная – Московский университет, и постоянная врачебная практика: тысячи больных в год. Занимался медициной всегда, и во времена рассказиков «Антоши Чехонте», и в годы всероссийского признания. Когда литература стала приносить доход – лечил безплатно.
Типичный русак, интеллигент в первом поколении, будущий российский гений вырос в среде, где деньги играли «безобразно большую роль». У отца была лавка, но торговал он не слишком удачно, и в 16 лет юный Антон Чехов остался в родном Таганроге один «на хозяйстве». Три года он старательно выплачивал долги семьи, но пора было получать образование, и – в Москву, в Москву!
Город был хорош. Норвежец Кнут Гамсун писал о Москве в конце позапрошлого века: «…с Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать подобный город». Жили Чеховы в этом сказочном граде очень бедно, тем не менее, Антон стал в 1879 году студентом медицинского факультета Московского университета. Занятия совмещал с практикой в университетских клиниках: на Рождественке и в больнице у Петровских ворот (сегодня это активно реставрируемая больница № 24 на Страстном бульваре).
Литературные заработки позволили Чехову со всем семейством переехать в Замоскворечье, на Большую Якиманку: «…здесь настоящая провинция – чисто, тихо, дёшево и глуповато». Видел бы Антон Павлович эту «дешёвую провинцию» сегодня… Жильё было вполне солидным, у Чехова образовался кабинет для работы и приёма больных. Литература приносила не только доходы, но и известность. Однако под письмами по-прежнему стояло: «вольно практикующий врач А.П. Чехов».
Только Чехов мог написать «Палату № 6», «Случай из практики» или «Ионыча»: «недурно быть врачом и понимать, о чем пишешь». А понимал он наши вековые проблемы, как никто: сиделки нечистоплотны, фельдшера пьют, больные и больница заброшены – всё это профессиональные наблюдения.
Способный, образованный, преданный делу, Чехов мог сделать прекрасную карьеру (один из его сокурсников стал лейб-медиком императорского двора), заниматься наукой или прибыльной частной практикой, но он выбрал самый трудный путь. Позже писатель скажет: «Послужить врачом в земстве 10 лет труднее, чем 50 лет быть министром». Эта фраза Чехова, как медаль всему врачебному сословию за заслуги.
Кстати, читателям весьма полезным оказалось медицинское образование одного из лучших наших писателей. Только уникальный сплав отнюдь не смежных областей – литературы и медицины – способствовал установлению такого, например, национального диагноза: «…чрезмерная возбудимость, чувство вины, утомляемость – чисто русские. Немцы никогда не возбуждаются, и потому Германия не знает ни разочарованных, ни лишних, ни утомлённых… Возбудимость французов держится постоянно на одной и той же высоте, не делая крутых повышений и понижений, и потому француз до самой дряхлой старости нормально возбуждён».
И гражданским, и человеческим подвигом была работа Чехова в холерный 1892 год в Мелихове, куда он от суеты и посетителей, а также для поправления здоровья сбежал из Москвы, купив небольшое именьице. Какой отдых! Уже автором «Чайки» пишет приятелю: «У одного богатого мужика затянуло калом кишку, и мы ставили ему громадные клизмы». В страшный холерный год Чехов горевал, что он из всех серпуховских докторов самый жалкий: лошади паршивые, дорог не знает, а только сильнейшее утомление и обязанность писать – для денег: «Если не считать трёх рублей, которые я сегодня получил за триппер, то мои доходы равны нулю».
Конечно, врачам платили, но Антон Павлович «нашел удобным для себя и для своей самостоятельности отказаться от вознаграждения». Письма из Мелихова отчаянные, но всё это – минутная слабость, потому что тут же пишется: «Теперь все работают. Люто работают …делают чудеса». И вот это – настоящее, ради чего он живет, чем так хороша для него медицина: немедленная помощь страждущему.
Что стремило уже тяжело больного человека с громкой литературной славой отправиться на зачумленный Сахалин? Всё то же – дело. Решил, что в России много врут, много говорят, а фактов нет, и – в путь, без официального поручения и за свой счёт. Работу там проделал колоссальную: встречался с каторжанами, заполнил 10 тысяч статистических карт, принимал больных. Поездка была тяжелейшая, в пути голодал, мечтая о простой гречневой каше. Но свой долг, как он его понимал, выполнил. Неслучайно ведь говорил: лучше быть жертвой, чем палачом.
Всем известна фраза Чехова, что кроме жены-медицины, у него была литература-любовница: «Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги центр моей деятельности. Ноющее чувство это вместе со справедливостью делают в моих глазах писательство моё занятием презренным, я не уважаю того, что пишу, я вял и скучен самому себе, и рад, что у меня есть медицина, которою я, как бы то ни было, занимаюсь всё-таки не для денег».
Куда шли деньги от «любовницы»: помощь голодающим, сахалинский подвиг, лечение холерных больных, постройка трёх школ в своем Серпуховском уезде, библиотека в Таганроге, санаторий в Ялте. Сегодня бы Антона Павловича назвали социально ответственным гражданином и активным спонсором, а по русской жизни того времени – просто порядочный человек.
Болезнь не давала поблажек. Уже оставлено Мелихово, куплена дача в Ялте, лучшем месте для грудных больных. Как отмечал Чехов, испробованы европейские курорты: тщетно.
Но оптимизм и юмор его не оставляют «Кроме лёгких, все мои органы найдены здоровыми. До сих пор мне казалось, что я пил именно столько, сколько было не вредно; теперь же на поверку выходит, что я пил меньше того, что имел право пить. Какая жалость!».
В 1888 году, не достигнув и тридцати лет, Чехов обронил, что чувствует «собачью старость». Чувствовал верно, жить оставалось 16 лет: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости».
Летом 1904-го, своего последнего года, изнемогающий Чехов едет в Баденвейлер, маленький курорт на юге Германии, рядом со Швейцарией. Московские прощания были тяжелы, одному из приятелей Чехов сказал: «Еду подыхать». Но письма с последнего курорта по-прежнему ироничны и пространны. И чего здесь более: желания не безпокоить близких или надежды, что он снова обманет болезнь, выкарабкается, выдюжит? Ведь ему всего 44, любимая жена, театр и работа, работа! Всё окружающее его по-прежнему занимает, но Германия скучна, сестре Антон Павлович пишет: «Наша русская жизнь гораздо талантливее, а про итальянскую или французскую и говорить нечего».
Выкарабкаться не получилось. 9 июля 1904 года московская молодёжь на руках пронесла свинцовый гроб с телом Чехова от бывшего Николаевского, теперь Ленинградского, вокзала до Новодевичьего кладбища. Земной путь замечательного русского писателя, врача, гражданина был закончен.
Елена Александровна Казённова
Источник: http://www.russdom.ru/frontpage
СТУДЕНТ
Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.
Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел всё время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.
Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.
— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя к костру. — Здравствуйте!
Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.
— Не узнала, Бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть.
Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее всё время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.
— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!
Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:
— Небось, была на двенадцати евангелиях?
— Была, — ответила Василиса.
— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били...
Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.
— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.
Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.
Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...
Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.
И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.
А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.